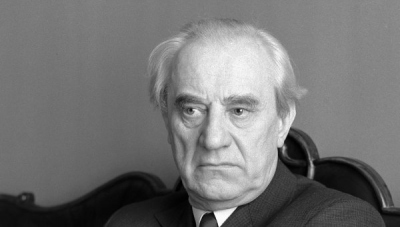Цитатник
Ян Френкель
Честь певца
Недавно по почте пришло письмо: «Запретите такому-то петь вашу песню!» И — имя достаточно известного певца. Человек решил, что если я написал песню, я ее хозяин и могу распоряжаться ее судьбой. У кого хочу — отберу, кому хочу — доверю. Как не похоже это на истинные взаимоотношения, которые складываются между автором песни и ее исполнителем! Певец выбирает себе репертуар, певец делает песню так, как диктует ему его понимание, талант и вкус.
Признаюсь откровенно: я редко получаю удовольствие, слушая свои песни по радио или с эстрады. Иногда мне становится стыдно — неужели это я написал? Есть композиторы совершенно другого склада — им нельзя не позавидовать, они замирают от счастья, слушая свои произведения, даже в тех случаях, когда исполнитель не оставляет в них живого места. Видимо, — я так себе объясняю это удивительное свойство, — в душе у этих композиторов звучит мощный внутренний голос и они слышат песню именно такой, как ее написали.
Может быть, я просто придираюсь? Может, меня мучает своеобразная авторская ревность и я хочу, чтобы все воспринимали мою песню именно так, как воспринимаю ее я? Нет, я смело могу отвести от себя такое подозрение. Недавно я слышал, как поет «Русское поле» Арташес Аветян. И мне не мешал ни акцент, ни совершенно для меня необычный подход к нотному тексту. Потому что этот певец понял песню нутром, растворился в ней, стал ее частицей. Как бы ни был деспотичен автор, разве не готов он простить самое вольное обращение со своим замыслом, если только получается по-настоящему убедительно?
И если у меня порой действительно появляется желание защитить каким-то образом свою бедную музыку, то происходит это вовсе не из-за разногласий в трактовке. Я имею в виду грубые исполнительские погрешности и прямые недоработки — то, что в сфере материального производства квалифицировалось бы как брак со всеми вытекающими последствиями. И это, к сожалению, на эстраде не редкость.
Был случай, когда стерпеть я не смог, потому что певец пел просто другие ноты. Я подошел к нему, указал на ошибку. «Не может быть!» — изумился певец. Взяли ноты. Он ахал, сокрушался, разводил руками. На другой день я услышал — как пел, так и поет. И я понял, что настаивать на своем бесполезно.
А слушатель не анализирует, что дал ему автор и что — исполнитель. Публика не только прощает любимому певцу недостатки, но они в ее глазах нередко превращаются в достоинства. Певческие грехи ложатся людям на слух, портят общественный вкус.
Вот почему, думается мне, особенно важно разобраться в том, как складывается наш творческий союз — тех, кто сочиняет песни, и тех, кто их поет.
В душе каждого автора, вероятно, живет мечта об исполнителе, который стал бы его вторым «я» на концертных подмостках. В воображении мы лепим, по методу гоголевской Агафьи Тихоновны, эту идеальную фигуру певца: вот если бы вокальные данные одного да помножить на музыкальность другого, прибавить чуточку сценического обаяния третьего, но без его ужасной дикции...
Всех исполнителей, по моим наблюдениям, можно разделить на две разновидности. Одни — это те, кто делает песню. Другие — наоборот: песня делает их. Для меня уникальным образцом первого типа исполнителей навсегда останется Марк Бернес. В нем не было ничего эталонного, он даже не был вокалистом в точном смысле слова, но благодаря ему сложился золотой фонд нашей песенной классики, который перейдет и детям нашим и внукам.
Песню Бернес чувствовал, как никто. Знал, какая песня нужна. Мог распознать «зародыш» будущей песни в наброске, в черновом варианте и знал, как помочь авторам осуществить этот замысел. По его просьбе переделывались стихи, переписывались музыкальные фразы. Сотрудничать с Бернесом было нелегко, он был адски требователен к себе и другим, но он умел убеждать.
Никогда Бернес не ставил себя в зависимость от публики, не старался предугадать, чего слушатель хочет, на что скорее согласится «клюнуть». Скорее наоборот! Он предлагал слушателю то, что считал нужным сам, и — удивительное дело! — у всех в зале тут же возникало ощущение, что именно это они и мечтали услышать... С его уходом ушел целый жанр: второго Бернеса не будет.
Я мог бы назвать тут и другие, всем хорошо знакомые имена... Это настоящие художники, большие мастера. Композиторы часто называют их своими соавторами, и говорится это не для красного словца: действительно, их творческий вклад в создание песни бывает очень велик.
Но в то время как певцы этого типа ищут, работают, творят, никогда не зная заранее, каков будет результат, представители второй категории не делают ничего. Они ждут, чутко вслушиваясь: не послышатся ли аплодисменты, овации? Это их пища, их «витамины», и они знают, как обеспечить себе признание. Надо петь песни, которые пользуются успехом, следовать моде, вовремя менять туалеты и репертуар... Наихудшая разновидность потребительства в искусстве!!!
Если певцы первой группы дороги и привлекательны прежде всего своей неповторимостью, яркой индивидуальностью, то вторые — это торговцы модным товаром. Они стремятся к тому, чтобы как можно меньше отличаться «от всех». Сегодня они будут пританцовывать, завтра заламывать руки, сегодня имитировать темперамент, завтра каменеть в нарочитой бесстрастности. Они еще в глаза не видели вашу песню, но уже знают, как будут ее петь.
Особенно опасно бывает попасться к ним в руки с песнями, написанными как бы на грани вкуса. В таких песнях все держится на «чуть-чуть», на тончайших нюансах: автор, как опытный эквилибрист, умудряется сохранить равновесие в столь рискованной позиции. Но эту песню при желании можно спеть так, что она окажется вульгарной, примитивной. Вот когда поневоле схватишься за голову со стоном: нет, этого я не писал!!!
Время бежит незаметно, и те, кого мы совсем недавно считали молодежью и пестовали как молодежь, вступили в пору зрелости. К одним приходит опыт, мудрость. Другие, так много обещавшие когда-то, разочаровывают. Наблюдая за теми и за другими, размышляя о том, как складываются их судьбы, невольно приходишь к выводу, что различия между ними зависят не только от природной одаренности и волевых качеств. Есть какие-то объективные условия, которые если не создают, то культивируют тот или иной творческий характер.
Давайте задумаемся: в какую сторону увлекают сейчас исполнителя эти объективные условия? Не действуют ли они порой вразрез с общей, обязательной для всех нас установкой — работать на высшем пределе своих возможностей?
Общеизвестно, как трудна песня для исполнения, сколько в ней коварно припрятанных подводных рифов. А если посвятить песне жизнь? Если выносить на публику не одну, не две, а целые программы, составленные из песен, каждая из которых — микроспектакль, со свим сюжетом и героями, со своими композиционными и стилистическими правилами? Песня жестоко мстит тем, кто не желает относиться к ней всерьез: если певец свысока смотрит на песню на том основании, что вообще-то он «настоящий» вокалист, работает в театре, поет Онегина, то рано или поздно он не сможет как следует петь и Онегина...
И таким же «общим местом» может показаться утверждение, что работа в песенном жанре требует высочайшего профессионализма, музыкальной культуры.
Но всегда ли выполняется это непременное требование?
Недавно в поездке я должен был аккомпанировать известной певице, разлученной, в силу обстоятельств, со своим ансамблем. Песни ее были мне незнакомы, нот не нашлось. Я пытался поймать мелодию на слух, но из этого ничего не вышло: напеть без ансамбля свою песню певица не смогла. И никаким способом — ни пальцем на клавиатуре, ни карандашом на нотной бумаге — певица не в состоянии была воспроизвести ту мелодию, которую, надо полагать, она учила. И это человек, не первый год работающий на эстраде, считающий себя профессиональным музыкантом!!!
Как-то незаметно, по крайней мере для меня, вдруг резко снизился барьер между профессиональным и самодеятельным искусством. Всегда было так, что одаренные люди приходили в искусство из любительских кружков, но всегда непременным условием такого перехода было образование. Теперь же это важнейшее качественное превращение человека осуществляется с головокружительной быстротой и легкостью. Люди оставляют работу, для которой у них есть и квалификация и опыт, бросают недоучками свои технические и сельскохозяйственные институты, и артист готов. И если судить по формальным признакам, это никому не мешает сделать карьеру на эстраде. Поездки, афиши с аршинными буквами, пластинки с портретами на конвертах — о чем еще мечтать? А реклама старается вовсю, нагнетает подробности: как жил себе, ни о чем подобном не помышлял, и как потом заметили, оценили, пригласили. «И вот — пою»... А многие из них люди несомненно способные и неглупые. Им бы школу, хорошего педагога, им бы железную профессиональную выучку. Когда-нибудь мы поймем, что в отношении их совершено самое настоящее преступление.
Снижение профессиональных мерок я улавливаю и в том, с какой легкостью предоставляются подмостки и эфир бесчисленным «самодельным» песням. Песни эти бывают убоги и примитивны до крайности, — неужели этого никто не слышит? Я думаю, что определенная часть слушателей уже выработала мнение, будто сочинять песни так же легко и приятно, как собирать в лесу грибы после теплого летнего дождя...
Из певцов среднего поколения дороже всех и понятнее всех для меня Иосиф Кобзон. С годами он стал опытнее, как-то мудрее, и не только непосредственно в пении, но и в всем творческом быте. Он уже не поет, как когда-то, по пятьдесят-шестьдесят песен за вечер, он понял, что и силы свои следует расходовать более разумно, и публику нельзя «угощать» искусством до пресыщения — с концерта человек должен уходить на взлете настроения, с чувством, что еще слушал бы и слушал... Из своих сверстников Кобзон в большей степени, чем многие другие, отвечает представлению о певце, делающем песню.
И все же я решусь поделиться здесь своей тревогой — ведь речь идет не только об этом исполнителе, а и обо всех, кто рядом с ним работает на эстраде.
В любом искусстве есть какие-то незыблемые пропорции между работой художника «для себя» и работой «для публики». И вот эти пропорции порой, как мне кажется, нарушаются. Жесткий, до предела уплотненный рабочий график оставляет меньше времени, чем нужно для углубленной работы над песней и над собой. Отдача становится больше, чем накопление, творческий «расход» превышает «доходы», а это для творческого баланса не менее опасно, чем для финансового.
Настоящего художника можно распознать по тому, как он относится к критическим замечаниям. Заинтересован ли он в доброжелательном анализе своей работы или его раздражает все, что не похоже на комлимент? Но порой случается, что добрый совет пропадает впустую не потому, что певец его не оценил, — у него просто не хватило времени призадуматься, прислушаться внутренне и реализовать подсказку. Надо бежать — на концерт, на телевидение, на вокзал. Бежать, бежать, бежать...
Может возникнуть сомнение: а правильно ли адресован упрек? При чем тут обстоятельства, если нагрузку себе, в конечном счете, определяет сам артист? Я думаю все же, что дело обстоит сложнее. Такое сложилось у нас в последнее время представление об образе жизни артиста, певца, что считается возможным (практически возможным) петь два, а то и три концерта ежедневно...
Очень показателен в этом отношении режим, принятый при звукозаписи (никто, надеюсь, не станет оспаривать, что это самостоятельная и очень ответственная разновидность творческого процесса). Я хорошо помню время, когда записи одной песни отводился целый рабочий день. Теперь, увы, не то — фонограммы выпекаются, как блины.
Явившись на студию записывать новую песню, я был поражен тем, что запись началась не с репетиции, не со встречи автора с дирижером, а... с включения аппарата. Но никто, кроме меня, не удивился. Оркестр не привык «возиться». Певец был озабочен пятью другими песнями, которые тут же предстояло записать следом. Он встал к микрофону, держась за нотную страничку, как за спасательный круг, и это было понятно, потому что он успел только «примериться» к песне, но выучить не успел. Какая там углубленная работа, какое «вживание» в замысел!!!
И я подумал: как переменились у нас нравы! Запись на радио была вершиной творческого процесса: фиксировались на пленке безупречно отделанные в исполнительском отношении вещи. А теперь запись понизилась в ранге даже по сравнению с самым заурядным концертом, поскольку перед концертом певец хочет не хочет, а учит текст наизусть!!!
И еще я задумался: сколько ответственных людей принимают участие в работе над записью — художественный совет, отделы с редакторами, звукорежиссер, даже тиражная комиссия... И все-таки не делается то необходимое и главное, что дало бы гарантию высокого качества этой всеобщей работы...
Я часто ссылаюсь на опыт прошлого, ищу там аргументы. Что это — свойство стареющих людей? Поверьте, что в данном случае — нет. В важных вопросах мы должны чаще оглядываться назад и сверять свои нынешние критерии с тем, что сами же теперь воспринимаем как классику.
Техника не обидела артиста своими благами. Он имеет ныне возможность, попивая кофе у себя дома, смотреть по телевизору концерт со своим собственным участием. Самолет меньше чем за сутки доствляет его на любую концертную площадку. И даже ужаснувшая меня «норма выработки» при звукозаписи — пять-шесть песен за один присест, — очевидно, продиктована именно техническими возможностями радиоаппаратуры. К этому надо прибавить нарастающие темпы жизни и увеличивающийся интерес людей к искусству. Разве жители Хабаровского края имеют меньше прав на популярного певца, чем москвичи?
И вот в этих условиях особенно важно не разучиться различать то, что техника может ускорить, облегчить, упростить, и то, над чем машина была и будет бессильна. Во веки веков не утратит своего всечеловеческого смысла бессмертная формула: «Служение муз не терпит суеты», хотя само представление о «суете» у людей, разумеется, будет меняться и дальше.
Может ли быть более надежный залог успеха — подлинного творческого успеха, — чем живой контакт автора песни и исполнителя в пору ее рождения? Почему же этот контакт стал такой редкостью в нашей жизни? Не могу вспомнить, чтобы кто-нибудь пришел или позвонил с такой в общем-то вполне естественной просьбой — вот, дескать, работаю над вашими песнями, не встретиться ли нам, не обсудить ли? — На край света побежишь, получив такое приглашение!!!
А в доказательство того, что подобный контакт может быть исключительно плодотворен, приведу в пример работу с Кобзоном над циклом песен-романсов на стихи Константина Ваншенкина. Жанр для певца оказался непривычным, трудным, запись длилась не один день. Зато все, кто знаком с этой работой, отмечают, что певец раскрылся в ней совершенно по-новому...
Я имею основания думать, что у меня и у значительной части публики требования к исполнителю в общем-то совпадают. Мы больше всего ценим певцов, умеющих быть собеседниками слушателей, не вознесенными над залом, а как бы помещенными с ним в один круг душевного тепла и доверия. И впечатления, вызванные таким пением, люди переживают тихо, без внешних признаков ажиотажа, но зато уносят с собой и хранят долго. Этим певцам, которых мы больше всего любим, не свойственна помпезность, аффектация — по купеческому закону: не смог сделать красиво, так пусть хоть будет богато.
Мир песни безгранично разнообразен. Есть песни, рожденные звучать на площадях. А есть песни, которые мне не хотелось бы слушать даже на концерте, где я сижу, окруженный сотнями людей, — лучше я включу магнитофон у себя дома, чтобы послушать эти песни один на один.
Вот почему особенно огорчает меня тот шаблон, который сложился при организации концертов, посвященных песне. Усаживается большой оркестр. Выстраивается большой хор. Все так громко, так парадно, псевдоторжественно. Певцы, совершенно разные по своей природе, невольно подчиняются этому стилю. Песни начинают звучать как бы в единой тональности. Более того! Шаблон делает стереотипными даже сами события, в честь которых устраиваются эти песенные празднества. И вечер, посвященный Расулу Гамзатову, проходит по той же схеме, что вечер, посвященный Роберту Рождественскому, хотя у Гамзатова несравненно меньше стихов, положенных на музыку, и уже одно это обстоятельство должно было натолнуть организаторов на мысль найти какую-то иную форму концерта.
А ведь такие гала-представления транслируются на всю страну, и шаблон в подаче порождает ответный шаблон в восприятии. Публика заранее знает, как все будет, и ей начинает казаться, что так и должно быть; она уже не ждет от исполнителя открытий, наоборот, ей хочется, чтобы он как можно меньше отличался от привычных образцов...
Мы должны обратить самое серьезное внимание на условия, в которых живет и трудится певец на эстраде. И может быть, есть смысл провести «генеральную уборку», убрать все, что отвлекает от творчества, мешает внутреннему росту, создать здоровую обстановку.
Однако далеко не все можно объяснять и извинять объективными условиями. Напоследок нужно вспомнить и о таких вещах, как совесть и принципиальность художника. Они не дадут настоящему мастеру унизиться до «халтуры».
Мы часто говорим об ответственности исполнителя перед публикой. Но разве нет у него и своеобразного долга перед песней, которую он взялся петь? Возможно, если певцы, беря в руки страничку с нотным текстом, ясно представляют себе, что они становятся соавторами произведения, это убережет их от чрезмерной торопливости и некритического отношения к своей работе.
Певец — соавтор песни, наравне с композитором и поэтом... Я думаю, что такая постановка вопроса вполне правомерна.
Люди говорили: песни Утесова, песни Шульженко, песни Бернеса — то ли не зная, то ли упуская из внимания, кому на самом деле принадлежали эти произведения. Но я уверен, что ни один композитор в этих случаях не обижался за посягательство на свой авторский приоритет...
Советская эстрада и цирк, январь 1974 г.
Эта статья взята с Официального сайта композитора.
Артемий Лебедев — российский дизайнер, изобретатель, бизнесмен, блогер, путешественник и автор «Ководства» — руководства по веб-дизайну.
«Знания.Принцип простой: надо делиться знаниями и приемами.
Все люди, которые зажимают знания, не делятся открытиями, прячут профессиональные секреты — все они проигрывают. Если не прямо сразу, то через пару лет.
Информация — это единственный ресурс, которого не становится меньше, когда им делишься. Это надо помнить всегда.
Важны не сама информация, не идея, не знание — важны умения все это вовремя и по делу применить».
Борис Александрович Покровский (1912- 2009) — выдающийся советский и российский оперный режиссёр, педагог, профессор.
Интервью 2002 года. Полностью прочитать здесь.«Мир переменился. Стравинский говорил мне: „Вас будут уважать до тех пор, пока Вы не станете улучшать классику“. А сейчас как раз такие настроения. Молодые люди, которые стремятся улучшить классику, похожи на человека, что пришел бы в Лувр, чтобы на свой вкус раскрасить Мону Лизу, потому что ее улыбка устарела, — наши девушки так не улыбаются.
Такого новатора просто вышвырнут из Лувра. Нельзя дотрагиваться до Чайковского, Верди, Бизе. Один композитор, кажется, Шуман, говорил, что каждое время дышитпо-своему . Новаторство заключается в том, чтобы расслышать это свое дыхание. И ставить надо не так, как сейчас, а так, как тогда».
Клавдия Шульженко «Когда вы спросите меня», Москва, «Молодая гвардия», 1981 год. Отрывки из книги.
Без волнения не обходится ни один концерт, ни один выход на сцену, хотя зритель этого не знает и не замечает. Так бывает всегда, перед каждым выступлением меня не покидает ощущение, что всё начинается с начала, как в первый раз.
(О юбилейном концерте) Ответственность заставила меня всё тщательно продумать, вплоть до «мелочей», которые даже не приходят в голову зрителям. Ну, к примеру, как построить программу, с какой песни начать, после какой «дать слово» оркестру, какие лучше петь под рояль, какие с ансамблем. Или — не отяжелят ли новые оркестровки, сделанные на большой состав, песни прошлых лет, полюбившиеся слушателю в ином оркестровом наряде. Или — какое платье надеть для исполнения тех или иных песен? Вопрос этот тоже не маловажный.
Недавно прочла в одной статье, что певец (не будем называть его имени) вкладывает в каждую свою песню кусочек сердца. Не знаю, может быть, это эффектное сравнение, но смысл у него не точный. Песня,
Мне кажется, это относится не только к певцам, артистам, но и ко всем, кто вкладывает в своё дело душу, вне зависимости от того, чем он занимается. И такой человек не может думать о любимом деле только «на работе», в строго отведённые для этого часы. Любимое дело поглощает целиком, принося подлинное счастье.
Прежде всего я поняла, что певица на эстраде должна быть настоящей актрисой, которая смогла бы играть и в драме, и в комедии. Ведь хорошая песня — это очень часто маленький спектакль, с той только разницей, что все роли в нём играются одним исполнителем.
На сцене театра актриса обычно располагает большим драматургическим материалом (если её роль относится к числу главных): она имеет возможность на протяжении трёх, а то и пяти актов до мельчайших подробностей раскрыть характер героини, передать смену настроений, проследить за всеми изменениями её внутреннего мира, эволюцией её чувств, мировоззрения
В песне зачастую это нужно сделать в считанные минуты, на протяжении трёх небольших куплетов. Поэтому хотелось бы сравнить певицу с мастером сценической миниатюры — в театрах встречаются такие блестящие мастера эпизода, которые умеют в маленькую роль вложить столько жизненных наблюдений, что она запечатлевается в памяти зрителя не менее яркая, чем главная. Но и это сравнение будет не совсем точным. Задача, стоящая перед певицей, нередко более сложная: ей бывает необходимо сыграть не одну эпизодическую роль, а сразу несколько.
Вот почему мне кажется правомерным сравнение песни с пьесой, а певицы с драматической актрисой.
Задача найти свой репертуар необычайно сложная. Посмотрите, сколько певцов сегодня хватаются за песню, ставшую популярной. Ничего не изменяя в трактовке, которую дал ей первый исполнитель, они зачастую рассчитывают не на свои силы, своё умение, а на слушательскую любовь к данной песне. Провалиться с популярным произведением кажется невозможно. Но при этом певец теряет своё лицо, или что ещё хуже, и не пытается его обнаружить. Идёт тиражирование одной и той же манеры, одних и тех же приёмов, индивидуальность стирается, не успев раскрыться. И это в конечном итоге печально сказывается не только на отдельных исполнителях, но и не эстраде в целом.
Неписаный закон эстрады — отождествление певца с героем песни. Этот закон почти не знает исключений, имея хождение только на эстраде. В филармоническом или консерваторском зале певица может в любом возрасте петь романс «Мне минуло семнадцать лет», и ни у кого это не вызовет возражений. Но попробуйте сделать подобное на эстраде!
Помню, одна эстрадная певица попыталась в своём концерте использовать чисто филармонический приём: она пела все песни, держа в руках небольшую записную книжку и поглядывая в неё. Этот приём, как говорят теоретики, помогает установит дистанцию между исполнителем и героем исполняемого произведения. На эстраде он с треском провалился. Зрители не приняли его и недоумённо спрашивали: «Что она, не могла выучить слова?» Они и не догадывались, что в записной книжке певицы все страницы были чистые.
Никакие записные книжки или другие приёмы не должны на эстраде нарушать эту кратчайшую связь: исполнитель — слушатель. В каждой песне эстрадный певец рассказывает о других как о себе. И зритель верит: всё, что происходит с героем песни, произошло с самим певцом, пережито им, прочувствованно.
Хочу заметить: когда говорю об учении, то ни в коей мере не подразумеваю под этим подражание учителю, копирование его, повторение того, что найдено им. Учиться можно многому — умению работать над ролью, искать подходы к ней, отношению к творческому труду
Может,
Привлечь внимание зрителя можно не усилением звука, не криком, а эмоциональной наполненностью. Когда у актёра внутри пусто, когда он не прочувствовал то, о чём поёт, рассказывает, читает, никакие самые мощные динамики не помогут завладеть вниманием зрителя.
Вся жизнь артиста, если он человек творческий, не может и не хочет топтаться на месте, — это цепь экзаменов. Говорю об этом для тех, кто представляет себе путь эстрадного исполнителя как дорогу, усыпанную цветами, по которой можно безбедно пройти от успеха к успеху. К сожалению, такое представление бытует не только у того, кто в юные годы мечтает об эстрадной карьере, но среди тех, кто призван серьёзно осмысливать наше творчество, — среди журналистов.
Я не считаю, что у зрителя не может быть любимого актёра, певца, танцора
Никогда не умела и не умею механически заучивать текст, «зубрить» его. Для меня главное — разобраться, о чём он, каким внутренним состоянием вызваны те или иные слова, что хочет сказать человек, какова логика его мысли, его рассказа, какие чувства при этом возникают. Поэтому мне важно установить, в чём заключается завязка, где наступает кульминация, а где — развязка, то есть те элементы композиции, на которых строится не только сюжетный рассказ, но которые присутствуют и в размышлениях, так называемом «монологе мысли».
Я убедилась, что в песне можно сказать о том, что волнует тебя и твоих современников, что песню можно (и нужно!) играть, как роль в театральном спектакле, причём роль эта для певца всегда будет главная, что песня даёт исполнителю возможность установить со слушателем особый, «прямой», идущий от сердца к сердцу контакт.
Зрители зачастую и не знают, в какой зависимости от них мы находимся! Сколько раз в жизни, в самые ответственные выступления, надеялась: только бы помог зритель! Артист эстрады не может работать в вакууме. Если из зрительного зала не получает ответной реакции, он вянет или начинает жать на все педали, стремясь получить ожидаемый, заранее запланированный эффект, — и гибнет, потому что на эстраде, пожалуй, нет ничего страшнее, чем «пережим». Он приводит только к тому, что зритель окончательно замыкается, начинает наблюдать за артистом «со стороны», делается если не враждебным, то равнодушным. А искусство на эстраде — это всегда сотворчество артиста и его слушателя.
Я видела, с каким жадным,
Когда я думаю о «театре песни», то мне кажется, что речь здесь должна прежде всего идти об актёрском отношении к произведению. Это начало начал.
В звучащей песне всегда присутствует субъективный фактор. Его можно обнаружить уже в самом выборе песни. Это относится как к профессиональным исполнителям, так и к самым широким кругам поклонников песни. Думаю, что в самом выборе песни для исполнения отражаются важные категории — отношение к миру, точка зрения на действительность.
Далее. Песню нельзя просто спеть. Это никому не удавалось. Обычно поющий выражает в песне себя, своё настроение, своё отношение к окружающему. На песне сказывается и то, где и когда она поётся. Обратите внимание, какую песню вы выбираете, когда вам весело или грустно, наедине вы или с друзьями. Не всё, что поётся в лесу на привале, прозвучит, скажем, в колонне демонстрантов или в семейном кругу. Короче, даже в быту на исполнение песен влияют самые различные обстоятельства, в зависимости от которых они получают ту или иную трактовку.
Профессиональный певец, приступая к новой песне, прежде всего озабочен именно тем, какую трактовку ей дать. Трактовка — это и есть первый шаг к «театру песни», первый творческий акт, сходный с тем, какой переживает актёр драматической сцены.
Чем же диктуется эта интерпретация? Конечно, самой песней. Исполнитель исходит из того, о чём в песне говорится, каковы её герои. Но какой должна быть трактовка песни, какое настроение ей придать, какими эмоциями наполнить её — зависит от индивидуальности исполнителя. Трактовок могут быть десятки.
Каждый певец стремится
(Подробная работа над каждой фразой) Для чего это делается? Конечно, не для того, чтобы расцветить песню, как говорят, «раскрасить» её. Раскрашивание возникает тогда, когда исполнитель озабочен не тем, чтобы раскрыть смысл песни, а тем, чтобы показать себя: смотрите, какие у меня изящные руки, какие я могу принимать позы, как у меня хорошо звучат низкие ноты и какую эффектную фиеритуру могу вам продемонстрировать. Такое бессмысленное пение вызывает у слушателя раздражение, а иногда усмешку и свидетельствует об отсутствии у певца подлинного профессионализма.
Определяю «сверхзадачу» я сама, другой сделает это иначе. Приняв решение, стараюсь найти наиболее точные, яркие средства для того, чтобы сделать моё доказательство убедительным, чтобы слушатель принял моё решение как своё собственное.
Некоторые песни я исполняла с вещественными атрибутами — флотской бескозыркой, синим платочком, (кастаньетами, бубном)… Есть песни, для которых этот приём мне кажется необходимым: атрибуты помогают раскрыть характер героини, полнее передать смену её настроений, а иногда точно обозначить место действия.
В сюите «Возвращение солдата» отказалась не только от декорационного оформления, но и от всякой атрибутики. Только песня — её характер, характеры её героев — таков мой театр.
Никто не вправе определить: эту песню поёт только хор, эту —
Сегодня мы нередко встречаемся с новым прочтением старых песен, обращением новых исполнителей к песенной классике. И это очень хорошо! Беда только, что прочтение ограничивается порой эффектной модернизацией, и новая трактовка, вызвав вначале восторг части слушателей, вдруг тихо исчезает, а песня продолжает жить в старом «проверенном» варианте. Почему это происходит? На мой взгляд, потому, что в некоторых новых прочтениях известных песен, исполняемых, скажем,
Всё в искусстве, наверное, было бы просто, если бы любая трактовка, любое прочтение рождались за столом, с помощью циркуля и логарифмической линейки. Тогда, вероятно, не составило бы большого труда рассчитать все пропорции, высчитать шкалу чувств и глубину постижения, создать нечто вроде рабочего чертежа, следуя которому можно с гарантией избежать провалов. Но в
В искусстве — и это бесспорно — постижение произведения, глубина его прочтения зависят от уровня таланта, умения чувствовать, но, главное,
Если исполнитель, известен он или только начинает свой творческий путь, всерьёз озабочен репертуаром, то он ищет с в о ю песню. Это значит — думает, о чём она должна быть. Думает повседневной даже ежечасно — автоматически. Мне рассказывали, что настоящий художник, когда, например, идёт по улице, совершенно непроизвольно фиксирует цвета, попадающие в его поле зрения, — цвет платья, туфель, скамейки, дома, — таковы свойства профессионального глаза, то есть художник находится в постоянной работе. То же происходит с любым творческим человеком — актёром, писателем, певцом… Без пристального внимания к жизни, изучения её творчество теряет живительные соки и гибнет.
Шуточные песни — едва ли не самое трудное, с чем приходится сталкиваться певцу. Сколько здесь подводных рифов, опасностей, подстерегающих исполнителя. Вот где всё зависит от чувства меры, от того самого
Сколько спела песен — не знаю. Никогда не считала. Наверное, несколько сотен. И за каждой стоит труд — композитора, поэта, исполнителя. В нашем деле количество не переходит в качество. Каждая песня — законченное, самостоятельное произведение, и когда певец приступает к нему, разве он знает, какая судьба ожидает песню, найдёт ли она путь к сердцу слушателя, запомнится или пройдёт мимо, никого не задев; а если и заденет, то надолго ли — каков будет возраст песни: останется ли она вечно молодой или её ждёт преждевременная старость? На эти вопросы вряд ли
Я бы никогда не смогла показать зрителю полуфабрикат: это дискредитировало бы не только песню (на эстраде, увы, так бывает), но и мою профессиональную честь.
Для меня в этом понятии нет ничего громкого, и не люблю, когда произносят его с придыханием или на повышенных тонах. Считаю, что «профессиональная честь» — обычное, повседневное понятие, и каждый, в ком есть совесть, не хочет срамить его. Вот почему я не позволю себе исполнить не только новую песню, если чувствую, что она для премьеры ещё не созрела, но и старую, если предварительно, хотя бы в день концерта, не репетировала её.
Поэзия — основа песни. От поэзии зависит, наполнится ли песня глубоким содержанием, подлинными чувствами, значительными образами. Не будет этого — не спасёт самая хорошая музыка.
Привычка, выработанная годами в студиях, где писались обычные пластинки, у меня сохранилась до сих пор. Я и сегодня весьма скептически отношусь к ножницам, при помощи которых можно «скроить» песню, записанную на магнитную ленту три, а то и большее число раз. В одном варианте удачное начало — берём его, в другом лучше получился припев — пойдёт он в дело, а в третьем певцу удался только финал — он и завершит этот склеенный из кусочков «вариант».
Не понимаю этого и не одобряю появление на свет подобных «гибридов». Ведь певец, если он настоящий артист, не может спеть абсолютно одинаково одну и ту же песню — каждый раз она будет хоть
Точно так же не приемлю и раздельной записи, так называемой «записи наложением»… Мне кажется, что процесс записи песни обоюдный, взаимосвязанный — исполнитель должен чувствовать живой аккомпанемент (пианиста или ансамбля) и наоборот. Да и как можно петь под одно и то же, уже раз и навсегда зафиксированное сопровождение — это значит, ничего нельзя изменить ни в ритме, ни в настроении — для «волшебного
Не хочу давать себе послабления — искусство этого не прощает. Согласна записывать хоть десять вариантов, не получится сегодня — перенесём запись на завтра, лишь бы добиться желанного результата! Никакой «сверхъестественной» требовательности к себе здесь нет, это норма, если вы относитесь к своему призванию как профессионал, а не дилетант.
Об этом приходится говорить, ибо порой случается слышать: «Зачем так тратиться! Надо себя беречь!» Искусству надо отдавать себя целиком, все свои силы, беречься стоит только от халтуры, поверхностного прочтения песен, жажды лёгкого успеха. И никогда не идти на компромисс. Сколько раз мы видели, как молодой исполнитель, познавший первый успех, считал возможным прийти на запись сначала не совсем подготовленным, а потом и не подготовленным вовсе — положить текст на пюпитр и петь песню, с которой он чуть ли не впервые познакомился тут же, в студии, да ещё под оркестровую фонограмму, записанную для другого певца! Всё это не могло не сказаться на записях, слушатели теряли к популярному имени интерес. Желание тиражировать собственный успех приводило к тому, что в «тираж» выходил сам исполнитель.
Составление программы любого выступления для меня всегда предмет особой заботы. Ведь речь идёт не просто об установлении порядка номеров. В программу концерта могут входить различные песни — и те, что призваны в меру отпущенных им возможностей вызвать у зрителя серьёзные размышления над жизненными проблемами, и те, что рассчитаны на улыбку. Если их сравнить с пьесами, то первые можно назвать драмой, вторые — водевилем. Каждая требует от исполнителя умения понимать жанр, находить свойственные ему решения и краски. Когда иной раз на эстраде простенькую песенку пытаются подавать чуть ли не как философское откровение, неизбежно появляются ложная многозначительность и фальшь. Есть песни, в которых певец обязан открыть слушателю сложность переживаний и человеческих взаимоотношений, а есть и такие, которым сложность противопоказана, у них цели иные.
Но в программе нужны и те, и другие. Продолжая сравнение песен со спектаклем, можно сказать, что в концерте за один вечер должно состояться пятнадцать, а то и двадцать таких драматических представлений, — драм, комедий, трагедий, водевилей. Как же важно расположить их таким образом, чтобы они не мешали друг другу, не «забивали» один другой, а, наоборот, чтобы каждый номер выигрывал от взаимного соседства.
Опыт и здравый смысл могут многое подсказать. Надо подумать прежде всего о слушателе, об особенностях его восприятия. Плохо, если программа окажется однообразной, если песни настроением, мыслью, стилем станут повторять одна другую. Но если концерт будет походить на пёстрый калейдоскоп, его это также не украсит. Что же делать? Я, например, стремлюсь к разнообразию при внутреннем единстве.
Точный расчёт необходим каждому певцу. Тут надо подумать и о себе: выверить свои силы, чтобы хватило на весь вечер. Если одна песня требует особого напряжения — эмоционального, певческого, то после неё поставлю
И дело здесь не в механическом принципе: весёлая песня после задумчивой, лёгкая — после трудной. Кстати, в действительности для исполнителя бывает самым трудным переключиться из настроения одной песни в настроение другой. Я говорю о логическом построении программы, при котором приходится учитывать столько обстоятельств, нигде, кроме эстрады, кажется, и не существующих!
Ну, например, как меняются принципы составления программы в зависимости от того, собираюсь ли я петь сольный концерт, или выступить с одним отделением, или принять участие в так называемом сборном эстрадном концерте.
В сольном концерте я могу спеть, скажем, и «Товарищ гитару» и «Возьми гитару»: разные по настроению, они найдут своё место в программе. Для «отделения это невозможно. Как невозможно и для выступления, в котором исполняю
А разве можно не учитывать и того, когда проходит концерт — в будни или праздники (и если праздники, то какие именно!), где проходит и для кого.
Главный принцип — объединение программы единой темой, которая должна в ходе концерта развиваться, уточняться, обогащаться новыми примерами, поворачиваться к зрителям новыми, хорошо бы неожиданными, гранями.
На концерт люблю приехать пораньше. Освоиться с артистической комнатой, собраться с мыслями, вслушаться в тишину зрительного зала. Ближе к началу не спеша переодеться, поправить грим. И хотя всё это происходит в неторопливом, даже замедленном темпе, внутри всё туже закручивается некая пружина, которая должна распрямиться, когда выйду на сцену.
Главным остаётся зритель. В актёрской среде существует такая градация — «трудный» зритель, «лёгкий». Не знаю, каким барометром она устанавливается, но перед выступлением я никогда не думаю о том, какой сегодня зритель. Люблю петь для любой аудитории, считаю «своим» слушателя любой профессии. Я прихожу к нему на откровенный разговор, на исповедь и всегда верю, что он услышит меня. И пою не для «зрительской массы», а для каждого слушателя в отдельности, обращаясь к нему как к незнакомому другу.
Есть старинная пословица: «Пока живу — надеюсь». Я её изменяю на свой лад: «Пока живу — пою».
Натан Ефимович Перельман — советский, российский пианист и педагог. Автор знаменитой книжки афоризмов «В классе рояля».
Конечно, здесь не вся книга, а только некоторые цитаты, которые на данный момент пригодились в творческой жизни. Над остальными — работаю!)
Ничто так не отдаляет от совершенства, как приблизительность.
Заметьте: музыкант, не усматривая в этом смешного, говорит о звуке, как о фрукте — сочный, мягкий, нежный; как о
Посредственное вынуждает рассуждать, талантливое — умолкнуть.
Вычурность — опухоль выразительности.
Не лакомьтесь нюансами — это приводит к ожирению вкуса.
Хорошая граммофонная запись при первом прослушивании — сюрприз, при втором — назидание, при последующих — насилие.
Неизвестность эстрадного результата — беда и привилегия исполнителя. Беда — потому что она источник вечной тревоги; привилегия — ибо хранит в себе постоянную и тайную веру в чудо… и каждый раз в другое.
Глупость исполнителя нигде так не очевидна, как в паузе.
Без ненависти к плохой музыке не может быть любви к хорошей.
Динамика должна соответствовать акустике, как жидкость — емкости.
Нельзя, играя трагедию, жестикулировать комедию; нельзя, играя Прокофьева, жестикулировать Мендельсона. Жестикуляция — стиль. Жестикулировать надо не «себя», а автора.
Иногда красивый звук бывает так же неуместен в музыке, как был бы неуместен
Искать меру f и р надо не в силе звука, а в рельефности главного по отношению ко всему остальному.
Одна «щемящая» нота в шопеновской мелодии иногда дает слушателю больше, чем самое полнозвучное выпевание всей мелодии.
Титул «ищущий» следует присваивать находящему.
Не надо подсвечивать музыку, она не фонтан.
В некоторых домах современной архитектуры хочется играть только этюды Черни.
Не называйте новое искажение старого — новаторством.
Не устану проводить аналогию между музыкальной и словесной речью. Слушая
Не требуется проницательности, чтобы определить, что человек, «наступивший» на точку, «проглотивший» запятую, не придавший значения точке с запятой и в простоте душевной перепутавший восклицательный знак с вопросительным, ничего не понимает в произносимом тексте. Даже если все это произносится красиво и вдохновенно.
Оберегайте навыки от перерождения в привычки.
Я решительно за перенос системы знаков препинания, принятой в словесности, — в редактирование педагогической нотности.
Если в расшифровке мелизмов наука вступит в спор с красотой, встаньте на сторону последней.
Преуспеванию предпочитаю успевание.
Любители так называемого «сквозного действия», темповой одинаковости и прочих мудрых вещей! Знаки начертаны одинаковые, но что общего между ними? ничего! Здесь все становится иным. И темп, и интонация…
В кажущейся одинаковости — смелость гения, который создает подобно природе: здесь трава и там трава, здесь холм и там холм. Но кто упрекнет природу в длиннотах и повторах?
Что отличает музыкальность от чувствительности? Особенность чувствительности в том, что она свободна от оков мысли и потому доступна никудышным умам. Музыкальность — это с чувством проинтонированная мысль.
Несколько советов юным исполнителям.
Шесть дней трудись, седьмой играй, играй, играй.
Пой не за роялем, а на рояле.
Аккомпанируй себе не громче, чем ближнему своему.
Благоговей перед модуляцией.
Не укради с грампластинки.
Не педализируй всуе.
Не шепчи, ибо тебя даже ближний не услышит.
Будь суеверен — бойся недоработанной программы.
Люби полифонию смолоду, тогда и в старости она будет тебе верна.
Не выдумывай предконцертных привычек.
На свои концерты приноси ноты только (только!) в голове, но не в портфеле.
Люби свое дело легко и весело.
Ярко талантливая невнятность отличается от неталантливой невнятности так, как рваная дорогая ткань от рваной дешевой.
«Покорно мне воображенье…», — однажды твердо сказала
Искусство интонации следует так же тренировать, как искусство скачков, октав, трели и пр. Мечтаю о сборнике этюдов с такими названиями: #1 — этюд вопросительный, #3 — этюд удивления, #4 — огорчения
Мне кажется, что современной архитектуре недостает музыкальности, а современной музыке — архитектоничности. Поэтому первой часто не наслаждаются, а вторую часто не понимают.
Нюанс — оттенок; в музыке это — оттенок музыкальной мысли. Некоторые начинают с оттенка, не позаботившись предварительно ознакомиться с «предметом» оттенка.
В наш век развелось так много феноменальных пианистов, что я истосковался по хорошим.
Музыка, как и поэзия, бывает неотразима в своей зашифрованности.
Не ломайте голову! Наслаждайтесь непониманием!
«Болеро» Равеля скроено и сшито так ловко, что оно без пригонки сидит прекрасно на любом дирижере.
Снимите с него «Болеро», облачите в Моцарта и… «да он колченог и кривобок», — ужаснетесь вы.
Великая балерина Екатерина Максимова:
Всю жизнь одно и то же: и абсолютно неважно, на какой сцене я танцевала — в Большом театре, в Париже, в Италии или
Курсив мой.
Удивительная, неповторимая, думаю, перевернувшая современный мир — Чечилия Бартоли.
Итальянский скрипач и дирижер, руководитель оркестра барочной музыки «Europa Galante» Фабио Бьонди:
…Я существую для музыки, а не музыка для меня. Я вижу большое число хороших исполнителей, которые используют музыку для шоу, чтобы показать свои возможности, употребляют ее в услужение своему эго. Меня это удручает и злит. Возможности виртуоза должны помогать музыке, а не наоборот. Обратите внимание на обложки пластинок — столько вульгарных картинок! Пора прекратить эту профанацию. Хватит. Настает время скромности.…Даже когда мы уже в который раз играем «Времена года», мне не скучно. И, кстати говоря, перед каждым исполнением этой музыки мы честно репетируем — несмотря на то что все знают ее даже больше, чем наизусть. Это хороший повод обсудить новые идеи, попробовать
…Давид Ойстрах для меня — лучший скрипач на все времена. В каждой ноте у него — Вселенная. Я пытаюсь учиться, слушая его записи, даже несмотря на то что я играю совершенно иной репертуар. В любом случае скрипка остается скрипкой — вы можете использовать специфические приемы,
Я всегда привожу один и тот же пример: да, я «барочный скрипач», но предпочту хорошего пианиста, как следует играющего Баха на «Стейнвее», плохому клавесинисту, который путает клавиши на своем чембало. Конечно, я чувствую себя спокойнее, когда Бах исполнен должным образом на клавесине, но для меня важнее, имеет ли музыкант ясное представление о баховском музыкальном языке, нежели то, на каком инструменте он играет. Интерпретация — на первом месте.
…Вчера перед сном я открыл одно небольшое исследование о римских скрипичных мастерах в восемнадцатом столетии. Там я увидел документ,
…Проблема в том, что мы, современные люди, хотим полной определенности. Открываем картотеку, смотрим: «С». «Скрипка». Скрипка — это вот что. А в восемнадцатом веке все было наоборот, мышление было ориентировано на постоянные изменения, ничего одинакового, каждый день новое. Так и мы, музыканты, должны меняться — с каждым диском, каждым следующим концертным залом играть иначе.
(Из интервью общественному изданию «Colta». Полностью интервью можно прочитать здесь).
Курсив мой.
Юлия Лежнёва.
Однажды в самолёте по пути в Италию я встретила Юлию Лежневу — чудесную певицу, за которой слежу давно. Сразу её не узнала, только когда она раскрыла ноты, образ завершился! Я ей сказала несколько, надеюсь, приятных слов, которые — абсолютная правда!
Герман Юкавский — актёр, оперный певец (бас), заслуженный артист России, солист Московского государственного академического Камерного музыкального театра имени Б. А. Покровского .
Потрясающая работа — даже не игра, а полное перевоплощение!
Майя Плисецкая.
Да, про балет. Но как каждое слово подходит и к певцу! Руки важны в танце, но руки так же важны и в исполнении вокального произведения. А как прекрасны её слова о необходимости реагировать на перемену солирующих инструментов в оркестре и соответствовать каждой исполняемой ноте! Так же, как и певцу необходимо откликаться на каждое слово поэта и каждую ноту композитора.